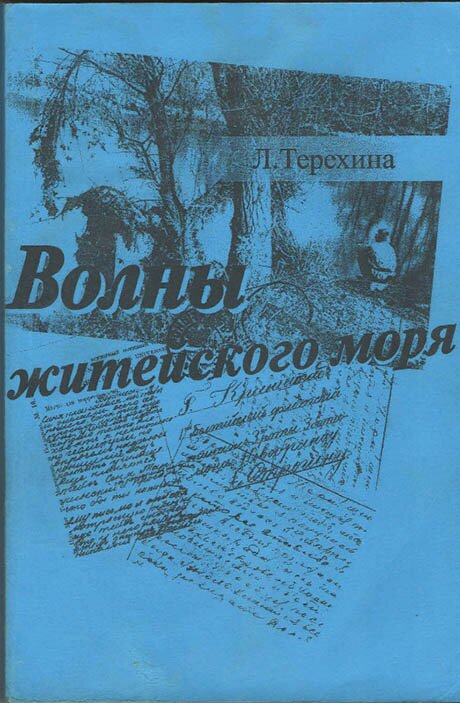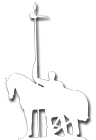Лидия ТЕРЁХИНА
© Л. И. Терёхина, 2005
Часть V
В ПРЕДЕЛАХ ВРЕМЕНИ
"Всякая душа, как мир в человеке.
Душа, отрекшаяся от страстей – мать бывает
Божественной благодати и рождает её в нас;
возмущённая же душа и брани творящая с другими
людьми и сама с собою, не думаю, чтобы
удостоилась Божественной благодати."
Иоанн Богослов. Предисловие к Евангелию
Шёл 1972-й год. Пензенская писательская организация готовилась встречать гостей. В рамках Всероссийского молодёжного семинара должно было пройти обсуждение рукописей первых книжек начинающих местных литераторов.
Вере срочно понадобилось допечатать рукопись. Половину подборки отстукала на своей «Колибри» Алла. Но машинка забарахлила.
– Надо взять у Чигирина. Он недавно «Москву» купил, – нашла выход подруга.
И промозглым октябрьским вечером они отправились в окраинный микрорайон, где жил их приятель. Микрорайон этот, застроенный перед войной двухэтажными шлакоблочными домами, утопал в грязи. Проезжая часть и тротуары были разбиты вдрызг. Доброхоты накидали в грязь кирпичей и дощечек, по которым только и можно было пробраться между домами к подъездам. Чигирин переехал сюда недавно – получил квартиру. Двухкомнатное малогабаритное жильё досталось ему по ведомственной линии: прежде пережидало здесь улучшения бытовых условий поочерёдно несколько журналистских семей. Новый хозяин обосновался в Пензе недавно, хотя родом был коренной пензяк.
Мальчишкой уехал он в Мурманскую мореходку, окончив которую, служил на траловом флоте. Штурманцом бороздил северные воды. Работа была не только суровой, но и опасной – не раз доводилось выуживать из чёрных холодных пучин северных морей немецкие мины, кочующие по воле ветров и течений с самой войны.
Чигирин вырос в нищете и голоде. Мать, конторская уборщица, родила его в сорок втором, когда отца уже мобилизовали. Он так и остался где-то в тверском болоте. На грошовую зарплату матери нельзя было даже вдоволь наесться. Сашка с малолетства водился с дворовой шпаной, промышляющей, где и что можно стырить. Воровали всё: оставленное без пригляду в сушилке соседское белье, с платформ, везущих в переплавку разбитую технику, – выбракованное оружие, со складов и рыночных рядов – продовольствие, зерно с элеватора, уголь из буртов в железнодорожном тупике – короче, всё, что «плохо лежало».
И гореть бы Чигирину синим пламенем, наматывать срок на срок, если бы начальник отдела кадров не помог матери через военкомат определить отбивавшегося от рук подростка в мореходку.
* * *
Их тральщик шёл с грузом на Шпицберген, когда торсанула по днищу подводная льдина. Получили пробоину. Пока откачивали из трюма воду, ставили пластырь и клепали, притёрся лед. Запросили помощи. В ожидании ледокола надумали вчетвером сходить на медведя. Не раз, проходя траверс, видели на льдинах белых великанов и их забавных детёнышей. Молодо-зелено… Медведя не достали, даже вдали не видели, зато когда возвращались к своему тралеру, Чигирин по пояс провалился в промоину. Ребята вытянули его быстро, но штаны и полы бушлата на морозе враз задубели, стали колом. Последние метры бегом, на руках несли его друзья до судна. В каюте раздели, растёрли спиртом, и внутрь принял хорошую дозу. Всё, казалось, обошлось, да вскоре начали болеть коленки. Спасу не было, как – совсем ходить не мог. Потому после рейса и списали штурмана Чигирина с Северного флота вчистую.
Отвалялся в госпитале, потом на берегу нашёл дело. Взяли его на радиостанцию «Юность Мурмана». Женился. Получил благоустроенную квартиру в центре города. Обзавёлся новыми друзьями. Журналисты – народ компанейский, свойский.
Передачи «Юности» шли на Москву и уже оттуда транслировались на всю страну, поэтому требования к радиожурналистам предъявлялись строгие. Придирались к каждому слову, но Чигирин справлялся. С немалой долей хвастовства любил щегольнуть позже перед пензенскими своими коллегами, как «эфир трещал от чигиринской глотки».
Однако Север есть Север. Застуженные ноги просили более мягкого климата. Начал подумывать о Пензе. И когда соседка матери – сама она умела только расписываться – прислала жалостливое письмо, что та прихварывает и одной ей трудно, Чигирин в одночасье написал заявление об уходе с работы и заказал контейнер. Жена поахала, поохала и начала собирать пожитки.
В Пензе Чигирина взяли в «Молодёжку». Пять зим проходил он в валенках, подшитых резиной от автошины, и крепко встал на ноги – во всех смыслах. Из полуподвальной комнатёнки вместе с матерью перебрался в «перевалочную» квартиру. Одна за другой родились две дочери. Главный редактор обещал выбить квартиру в новом микрорайоне, как на дрожжах поднимавшемся на бывшем пустыре.
* * *
Когда Вера и Алла пришли к Чигирину попросить машинку, то застали у него Сёму Похвистнева и незнакомца в сером пиджаке. Был он какой-то помятый, невыразительный и в хорошем подпитии. Подружки, не сговариваясь, окрестили его «Серым». Чигирин пытался усадить девушек за стол, но количество стеклотары, громоздящейся на столе, и присутствие «Серого» отбили бы даже большую охоту посидеть в дружеской компании. К тому же из-за занавески, заменявшей дверь в спальню, поочерёдно с тревогой выглядывали чигиринская жена с ребёнком на руках и сухонькая сгорбленная мать.
– Нет уж, Саш, мы пойдём.
– Ну, мать, как хотите. Много теряете, – развёл руками Чигирин.
– До свиданья.
– Пока.
На следующее утро перед началом занятий Веру вызвали к директору. Как-то неловко, словно смущаясь, директор, крупный рыхловатый мужчина, сообщил:
– Тебя, Кузьмина, просили зайти в ровэдэ. В двести четвёртую комнату.
– Зачем? – удивилась она.
– Там скажут. Занятия можешь пропустить.
В полном недоумении вернулась Вера в аудиторию взять сумку.
– Ты чего? – поинтересовалась соседка.
– В милицию вызывают, – пожала плечами Вера.
РОВД размещалось в старом двухэтажном доме внизу Московской. Проёмы окон прорезями смотрелись на массивных кирпичных стенах. Внутри – узкий, едва вдвоём разминуться – коридор вёл в обе стороны от входа. Прямо от двери, с площадки-пятачка метра полтора на полтора начиналась громыхавшая под ногами железными ступеньками лестница на второй этаж.
Вера, чувствуя, что от неизвестности страх начал посасывать под ложечкой, остановилась на верхней, такой же маленькой, площадке. Собралась с духом и спросила у проходившего мимо с бумагами молоденького милиционера, где двести четвёртая комната. Он на ходу махнул рукой назад – в левое крыло, откуда шёл сам. Во втором этаже, в отличие от первого, где толклось много посетителей, было тихо и пусто. Нужную комнату Вера нашла по выпуклым металлическим номеркам, привинченным к дверям шурупчиками. Рукой легонько надавила на дверь. Она тоненько пискнула и подалась. Вера заглянула внутрь.
В комнатке за канцелярским письменным столом, обшитым зелёным сукном, сидел молодой мужчина и разглядывал собственное лицо в маленькое зеркальце. Одет он был в гражданскую одежду.
«Окно, наверно, сто лет не мыли», – мелькнула мысль. – А самое светлое пятно во всей комнате – рубашка этого типа». Вера постучалась.
– Заходите, заходите, – голос приятный, доброжелательный. Гостеприимный хозяин поднимается над столом, улыбается ей. «Пожалуй, он даже красив. Крепко сбитый, ладный. Светлые короткие волосы. Округлое лицо, румяное. Щеки чисто выбриты и… усики. Теперь такие тонкие усики никто не носит. Художники и пижоны щеголяют «шкиперскими» бородками, как у Чигирина», – умудряется отметить Вера, протискиваясь между столом и стеной к стулу, стоящему напротив сиденья хозяина кабинета.
– Садитесь. Итак, вы Вера Андреевна Кузьмина?
– Спасибо. Да. – Вера чувствует, как взгляд красавца обшаривает её лицо – подобно назойливой осе. Хочется поднять руку и отмахнуться.
– Давайте знакомиться. Я, – красавчик проводит перед её глазами рукой с раскрытым документом. Вера успевает прочесть только одно слово – «Удостоверение». – Я пригласил вас по очень важному, можно сказать, ответственному делу. Вы, конечно, знаете, что у нашей страны много врагов. На Западе, в капиталистическом мире. Но самое страшное, что враги Советского Союза проникают и к нам сюда. Ищут и находят себе помощников среди наших граждан. Конечно, на их приманку попадаются люди слабые, беспринципные, готовые за деньги продать Родину. Мы выявляем таких людей и призываем к ответу. Но без помощи общественности нам трудно их выследить. Нам нужна информация: кто, где и что говорит или делает антисоветское.
«Вербует, – ужаснулась мысленно Вера. – Как при Сталине – чтоб я «стучала». – Расширившимися глазами она уставилась на рот говорящего. Красивые сочные губы произносили слова, которые отдавались где-то у неё в затылке. Отдельно от губ жили на смазавшемся лице холёные усики.
– Вы меня понимаете, Вера?
Она кивнула в ответ.
– Отлично! – Красавчик откинулся на спинку стула, явно любуясь собой. – Вот Вы вчера провели вечер в квартире Чигирина…
– Мы не провели, мы за машинкой ходили.
– Хорошо. С кем ходили?
– С подружкой, с Аллой Лозовой.
– А кто, кроме вас, находился в квартире Чигирина?
– Ну, жена его, мать, Сёмка Похвистнев и ещё какой-то дяденька, пьяный.
– Вы этого гражданина не знаете?
– Сроду не видела!
– Хорошо. А о чём шёл разговор за столом?
– Так мы же за столом с ними не сидели. Машинку взяли и ушли. Они все пьяные были.
Красавчик побарабанил пальцами по столу:
– Так, так… Ну, а о чём вы с подругой разговаривали, когда возвращались от Чигирина?
Веру вопрос одновременно удивил и озадачил: неужто такую серьёзную организацию интересует их с Аллой болтовня. «Коси под дуру!» – возопил внутренний голос.
– Ну, как всегда, о стихах говорили, о мужчинах…
– О каких мужчинах?
– Вообще о мужчинах, ну, о Чигирине и о Сёмке тоже.
– А когда вы собираетесь по средам в писательской организации или у Лозовых дома, о чём говорите?
– Как, о чём? О стихах и говорим. И вообще…
– Вообще, это как?
– Ну, бывает, вино пьем, танцуем, а больше – кофе.
– Гм… – повисла пауза. – Ладно, я бы хотел, чтобы Вы внимательно слушали, о чём говорят вокруг вас, и рассказывали мне.
– Ой, что вы, такое ответственное дело. Это же надо быть как Зоя Космодемьянская, героем! А я такая болтушка! Я не смогу. Я боюсь. Еще невзначай проговорюсь…
– Проговариваться нельзя ни в коем случае! – Красавчик смотрел на неё с лёгкой насмешкой. Кажется, он поверил, что она глупа как пробка. – О нашем сегодняшнем разговоре тоже нельзя никому рассказывать. Иначе для тебя это может плохо кончиться. Так как?
– Я не знаю, – потупилась Вера. Очень трудно не проговориться, я боюсь, невзначай…
Собеседник не дал развернуться её сокрушенности по поводу женской слабости.
– Допустим, что ты болтушка, – резко оборвал он. – Тогда как нам быть с нашим сегодняшним разговором? О нём не должен знать никто!
– Я постараюсь, – пролепетала Вера совсем неубедительно.
– Постарайся. И если где-нибудь, когда-нибудь мы встретимся, ты меня не знаешь. Ясно?
– Ага, – совсем потерянным тоном ответила Вера. – Ясно.
– Можешь идти.
Вера вышла на улицу. На лёгком ветерке почувствовала, что взмокла от напряжения. «Надо немедленно пойти к Алле и рассказать ей всё», – решила она. Не дожидаясь автобуса, быстро пошла вверх по Московской. Хотелось затеряться в толпе, в сети улиц и переулков. Непроизвольно оглядывалась вокруг – казалось: за ней следят. Поэтому сразу к Лозовым она не пошла, а свернула в лесопарк и долго петляла по тропинкам, пока не вышла к своей лесной «читальне». Там и просидела до сумерек.
«Они всё знают обо всех. Наверно, у Чигирина, а может, и у Лозовых стоят «жучки». Если нет, то кто-то же им доносит. Кто?! У Чигирина были, кроме нас, Сёмка и «Серый». Кто он такой? Или Чигирин? Господи, жила-жила и вдруг в такое вляпалась. Хорошо ещё, кое-что слышала об этих осведомителях. И хорошо, что Красавчик поверил в мою придурковатость. А ведь казался таким проницательным. Сказать по правде, вела себя как дура. Перетрусила. А что, если не отвяжутся и опять вызовут?» – крутились мысли.
В восьмом часу, когда уже стемнело, оглядываясь, подошла к дому, где жили Лозовые. Поднялась на пятый этаж, прислушиваясь, не идет ли кто следом. Позвонила. На звонок вышла мать Аллы Зоя Арсентьевна. Аллы дома не оказалось. Вера поздоровалась кивком, и, прижав к губам палец, не раздеваясь, решительно прошла в зал. Взяла валявшуюся на кресле газету, достала оточенный карандашик – всегда болтался в кармане на случай, если придётся записать чьи-то координаты или накатившую внезапно строку. На уголке газеты, на белом поле, написала: «З.А., надо срочно поговорить. КГБ» и показала газету с удивлением наблюдавшей за её странными манипуляциями хозяйке. Потом оторвала написанное, смяла клочок бумаги и сунула в карман вместе с карандашиком.
Зоя Арсентьевна, забыв о дымящемся на столе чае, накинула пальтецо, платок. Вера боялась говорить даже на лестнице. Рассказала всё подробно, только когда оказались на тенистой пустой аллее. Моросящий мелкий дождик разогнал гуляющую публику. Разговаривая, они не раз обошли по кругу парк – не договариваясь, выбирали укромные окраинные дорожки.
– А ведь я, Вера, однажды согласилась помочь органам, – выслушав, призналась Зоя Арсентьевна. – Чудом удалось отделаться от данного обещания.
– Да ну?! – выдохнула Вера.
– Да, да. Родители мои в Гражданскую войну воевали в Сибири. Папа командовал полком. Мама была комиссаром. Оба – члены партии. Папа погиб. Маму после войны назначили председателем горисполкома в Оренбурге. Я училась в десятом классе, когда расстреляли Блюхера. Начали арестовывать тех командиров, кто служил с ним в Особой Дальневосточной армии. Мы, школьники, были убеждены, что живём в самой справедливой стране, что Сталин – Великий вождь, а враги только и мечтают навредить нам. Считали, что врагов у нас великое множество, и не только капиталистов-империалистов, но и внутри России. Сейчас, по зрелому размышлению, убеждена, что врагов у России всегда хватало, только боролись порой не с ними, а со своим народом. Мы, знаешь, чем занимались? Тогда на школьных тетрадках, на обложках, печатали портреты разных известных людей – героев-летчиков, полярников, деятелей партии, учёных… Так вот, учителя поручали нам выискивать, не зашифрована ли в штрихах рисунков какая-нибудь антисоветская фраза. Мы добросовестно вертели на партах свои тетрадки и даже иногда что-нибудь обнаруживали, вроде заборных надписей вверх тормашками.
И вот однажды, вернувшись из школы, я застала дома маму. Необычным было уже то, что она днём – дома. Никогда раньше полуночи с работы не приходила.
Насторожило меня и её поведение. Возбужденная, лицо в красных пятнах. Из буфета на пол ящик с бумагами вывалила и что-то лихорадочно ищет. На мой вопрос, что ищет, даже не ответила. Собрала какие-то бумажки, закрылась в туалете. Потом воду спустила, и ничего мне так и не объяснив, убежала.
Я с пола всё опять в ящик сложила, на место его задвинула, а сор, клочки разные замела и в мусорное ведро понесла. Гляжу, в унитазе обрывки фотографии плавают.
Мама очень гордилась этой фотографией – на ней она, папа и ещё какие-то военные сняты были.
Меня как плетью хлестнули: «Что если мама – враг народа? Если нет – зачем фотографию порвала?» – Вернулась в комнату. – Как, – думаю, – должна поступить комсомолка, если узнает, что кто-то из её близких – враг? Конечно, мама – вряд ли, но… надо пойти в НКВД и всё рассказать. Они разберутся, и, скорее всего, окажется, что мама никакой не враг. Но надо проявлять бдительность». Пальто в охапку схватила – и на площадь. На улице уже одевалась.
Все административные здания в городе были расположены по периметру центральной площади, в том числе комиссариат внутренних дел и мамин горисполком. Рядом с горисполкомом – скверик. Я бегом бежала, запыхалась. Села на скамейку отдышаться, остыть. Страшно было идти, а не идти – не по-комсомольски.
Так я промаялась до вечера: идти – не идти. Наконец решила ещё последить за мамой, а уж если подозрения подтвердятся, пойти и всё рассказать чекистам. Вернулась домой в сумерках, озябшая. Дело-то было в конце октября. Уснула и не слышала, когда мама пришла.
А утром все мои понятия о долге и справедливости рухнули. Ночью арестовали нашего соседа, первого секретаря обкома. Он для меня как святой был, как Дзержинский.
Кроме старой шинели и латаных сапог, гимнастёрки и галифе у него даже никакой одежды не было. Жили в пустых комнатах, почти без мебели. Только стол, две кровати и табуретки. Жена его не работала, потому что у них трое детей было – маленькие ещё. Жили впроголодь. Малыши иногда к нам в гости приходили. Мама наварит картошки в мундирах, даст им по картофелине, а у них глаза заблестят от радости. Мама часто угощала их картошкой или хлебом, солью посыпанным.
Дом у нас был особенный – только начальство жило. И чуть ли не каждую ночь кого-нибудь забирали. В квартиры арестованных другие жильцы въезжали. Я тогда искренне считала, что забирают врагов, вредителей. А вот когда соседа нашего увезли – не поверила в его виновность, впервые подумала, что органы могут ошибаться.
Кристальный был человек, Герой гражданской войны, коммунист. И я рассказала маме о своих подозрениях и как сидела в скверике, и мы обе плакали. От мамы я тогда и узнала, что наряду с настоящими врагами Советской власти ссылают в лагеря и расстреливают ни в чём не повинных людей и что таких, может быть, даже больше. «Но об этом нельзя говорить ни с кем и нигде!» – сказала мама.
Вера слушала Зою Арсентьевну, не решаясь перебивать вскипавшими в мозгу вопросами. И только когда та замолчала, переведя дух, спросила:
– И как же Вы согласились?
– Это уже после войны было. Я в институте училась. Пригласили в райком партии. Тоже молодой человек, интеллигентный, приятной внешности. Попросил секретаря оставить нас вдвоём. Я была истовая комсомолка, кандидат в члены партии. Когда он объяснил, что за годы войны развелось много дезертиров, бандитов и просто мелких жуликов, я подумала, что уж я-то не стану клеветать на невинных людей. А если попадется настоящий враг, то надо же его обезвредить. И согласилась.
Мы встречались по вечерам на частных квартирах, часто меняли явки. Найдешь по адресу нужный дом, постучишь или позвонишь. Откроют. Глядишь – сидит за ужином обычная рабочая семья: муж, жена, дети. Покажут, как пройти в нужную комнату. Очень унизительными были для меня эти встречи. Казалось, хозяева думают, что я любовница этого… молодого человека и пришла на любовное свидание. Хотя, скорее всего, семьи эти были из сотрудничавших с органами, и мне это всё только казалось.
Встречались мы раз в месяц. Вопросы он задавал самые обычные: кто да что сказал по такому-то поводу, о чём студенты говорили на вечеринке. Я считала, про всякую ерунду спрашивает. Но вёл он себя очень корректно. Потом, как-то вдруг, мне нового «опекуна» назначили: маленького, щуплого и очень въедливого.
У меня друг был, Миша. Он с фронта капитаном вернулся. Такое повидал! Даже в плену у немцев три дня пробыл. Удалось бежать, до своих добраться. Войну на Эльбе закончил. Так вот, новый мой куратор начал требовать, чтобы я ему рассказывала не только то, что я на улице услышала, в трамвае, в магазине, что в группе говорят, какие книжки читают. Особенно его Миша интересовал.
А Мишка, как дурак, ни от кого не скрываясь, то заявит, что у нас везде бардак, а в Германии во дворах и на улицах чистота, то немецкие крыши черепичные или ведра обливные похвалит. Я его убеждаю: «Миша, помолчи!» А он в толк не берёт. Конечно, я его рацеи своему «шефу» не пересказывала, а потому моя информация его мало устраивала. Он все жёстче приступать начал, чтоб я ему «настоящие факты» предъявляла. Мишу они взяли зимой, в феврале. Его арест меня из жизненной колеи выбил.
Как могла, охраняла, а всё равно не уберегла. Ну, и ещё, конечно, стужа, недоедание. Заболела пневмонией. Долго болела, думала, что и не выживу. А едва на ноги встала – друг-«куратор» тут как тут. Что делать? Я, никому ничего не сказав, уехала в Горький, к тётке. Институт бросила. Очень боялась, что найдут.
Зоя Арсентьевна молча сделала несколько шагов и выдохнула: «Не нашли!» – Помолчав, добавила: «Тогда ведь как было: может, и сам мой куратор в мясорубку попал. В органах тоже без конца чистки делали. В общем, несколько лет прожила под страхом, как подо льдом. Понемногу оттаяла. Работала, где приведётся. И всё-таки хотелось получить образование. Поступила заочно. Там, в институте, и с Лозовым познакомилась. Он ведь тоже из семьи репрессированных. Отец его в лагере умер.
Обыкновенным портным был, из польских евреев. Из-под Люблина в Россию от Гитлера бежал, а тут Сталин его судьбой распорядился. Вот так».
«Я мальчишкой, наверное, дураком был – видел ложь и никак не противился лжи…» – всплыло в памяти Веры.
* * *
Этот разговор и происшедшие позже события получили, на первый взгляд, не связанное с ними завершение.
Через несколько лет, когда Кирилл и Вера были уже давно женаты, у их соседей произошла трагедия. Пропал Слава, приятель Кирилла, живший через стенку. Он служил в милиции, только что получил капитанские звёздочки. По такому случаю устроили пикник – всем отделом выехали на легковушках за город, на Донное озеро. Ночью Слава исчез. Первое, что пришло в голову – утонул. Хотя был он отличным пловцом, как и все мальчишки, выросшие на Суре. Товарищи Славы обшарили дно, где смогли. Вызвали водолазов – напрасно. На Донном озере по середине проходит разлом, глубина там метров под двадцать, и второе дно. Решили, что затянуло Славу в расщелину. Но, несмотря на такое предположение, милицейские друзья его поисков не оставляли. Облазали озеро вдоль и поперёк – пусто.
Месяц спустя пацаны из ближней деревни, поутру прибежавшие порыбачить на озеро, обнаружили утопленника возле самого берега. Не похоже было, что тело месяц в воде мокло – выглядел Слава так, будто вчера умер.
На похороны капитана полгорода собралось – был покойный хорошим парнем. Да ещё такой случай. Вера тоже вышла проводить соседа в последний путь. Стояла внутри человеческой стенки на тротуаре. Опытные в похоронных делах бабки качали головами, перёшептывались: «Убили Славу…».
Вдруг в шеренге провожающих мелькнуло знакомое лицо – румяное, с усиками. Подумала: наверно, знакомый Славы, как никак службы сродные. Красавчик её не увидел, да и не узнал бы, конечно. Это для Веры та дальняя встреча была потрясением, почему и запомнилось всё прочно, а для него – мелкий рабочий момент.
Ровно через месяц после похорон жена Славы, пышногрудая блондинка, съехала с квартиры. Тот самый давний Верин знакомец, шевеля усиками, под локоток вывел её из подъезда и усадил в бежевый «жигулёнок». Известие о Светкином замужестве прошелестело по дворовым скамеечкам квартала. Потом накатили, как морские волны, другие события, обсуждались другие новости. Время погоняло жизнь, и скоро сама память о погибшем капитане милиции тихо канула в Лету.
Вере нездоровилось – поламывало суставы, познабливало. Она решила отступить от выработанной с годами привычки работать с бумагами за столом. Отобрала несколько конвертов, развернула настольную лампу раструбом к дивану и приуютилась, накрывшись мужниной дублёнкой. Тишину комнаты нарушал лишь третий день бушевавший буран. Ветер натужно гудел, скрёб о стену металлической тёркой и, внезапно вздохнув, швырял в оконное стекло заряды жёсткого снега.
Она взяла тоненький конверт из серой рыхлой бумаги, подписанный знакомыми уже ей буквами К. П. Г. И тут до неё дошло: Константин Петрович Голутвин! – тот самый реалист Коська, приятель братьев Даршиных, записанный погибшим в войне четырнадцатого года и явившийся начальником штаба бригады Красной Армии в девятнадцатом.
Ветер находил лазейки и выдувал и без того не щедрое батареечное тепло. Но под овчинной шубейкой было тепло, дремотно. Не хотелось вставать, идти в спальню, разбирать постель и переодеваться для сна. Вера положила на стол прочитанные письма и щёлкнула кнопкой выключателя. Тут же по стеклу трижды сыпануло снегом – будто кто-то ритмично подавал сигнал бедствия находящимся в комнате. Прислушиваясь к заоконному хаосу, Вера уснула.
Ей приснился Кирилл. Он стоял в проёме комнатной двери в домашних туфлях и дублёнке и смотрел на неё с ласковой усмешкой: дескать, вот эти женщины! Она, видите ли, спит, когда такое творится!
– Кир, – всполохнулась Вера, – я сегодня поняла, кто такой К. П. Г. Ты его знал? – Кирилл молчал. – Она села, шаря под диваном ногами в поисках шлёпанцев. – Ты не сердишься, что я твои письма читаю? Я хотела выбросить, а потом… интересно стало. – Кирилл не говорил ни слова. Вере стало зябко. Она проснулась. Шубейка сползла на пол. За окном по-прежнему надрывался ветер.
Однажды она сказала мужу:
– Жаль, ты не расспросил отца и дядю Колю о революции и Гражданской войне.
И он ответил:
– Отец не любил рассказывать. Он боялся.
– Кого?
– ЧК, гебистов.
– …
– После смерти Сталина я пытался разговорить его. Самому многое было непонятно, разобраться хотелось: что, почему. Отец и тогда болел часто. Я говорил тебе, что его в сорок третьем на фронте придавило сваей, когда они в начале зимы наводили мост через какую-то речку. Если бы на берегу придавило – сразу насмерть. Его вода спасла. Но простыл он сильно. Эмфизема легких. Ну вот, я к его кровати подсаживался и надоедал со своими вопросами. Кое-что он шёпотом мне рассказывал о тридцатых годах, а мама ругалась: «Договоритесь! Придут!» Но о Гражданской он не хотел говорить.
Кто-то опять забарабанил в стекло. Вера прошлёпала ватными со сна ногами к окну и выглянула на улицу. Под резкими порывами ветра металась и хлестала по воздуху обледенелая ветвь дерева. При самых резких движениях дотягивалась она до окна.
Сна как не бывало. Вера прошла на кухню, включила сразу все четыре конфорки. На одну поставила джезву с водой для кофе. Достала с верхней полки шкафа початую пачку сигарет, забытую сыном после сороковин, прикурила от голубого пламени газового цветка. Руки дрожали…
* * *
Свёкор умер через год после их с Кириллом женитьбы, так и не дождавшись внука. В памяти Веры он остался большим, бледным и грустным человеком, которому постоянно не хватало воздуха. Последний месяц жизни он вообще не мог обходиться без кислородной подушки. Его место занял дядя Коля. Когда он овдовел на семьдесят шестом году жизни, Ирина Александровна, дабы не оставлять старика одного, перебралась в Латную. Они даже зарегистрировались в поссовете как муж и жена, дабы в случае смерти Николая Киприановича у Ирины Александровны остались рпава на жилплощадь.
Все мужчины Даршины походили друг на друга будто копии одного портрета. Даже их с Кириллом сын был такой копией.
Вере вспомнился забавный эпизод. На восьмидесятом году Николай Киприанович согласился на уговоры Ирины Александровны и перебрался из Латной в Пензу, он совершенно индифферентно отнесся к Кириллу. Никак не обозначил родственных чувств. Но маленький Гарик, кувыркавшийся на расстеленном для него на полу старом ватном одеяле, привёл старика в восторг и умиление. Он мог часами сидеть и глядеть на него, повторяя: «Наш парень! Головастый, и уши наши. Музыкантом будет! У нас, Даршиных, все музыкальные». И дядя Коля отирал большим платком с голубыми каёмками выступавшие на глаза слёзы.
Николай Киприанович был очень высок, пожалуй, даже выше брата. Но к старости – худ неимоверно. Оно и не удивительно, потому что ел он буквально как птичка.
Разработал свою какую-то диету. Кусочек хлеба, какие обычно нарезают к столу, он делил своим личным, как бритва отточенным ножом, на пятимиллиметровые кубики, которые сосал, как сосут леденцы. Запивал большой чашкой довольно крепкого и сладкого чаю. Это был его завтрак. Оставшиеся от завтрака кубики он съедал в обед с супом (Иринушка, мне пол-половника, не больше!). На вечер покупал в «Продмаге» бутылку кефира, которой ему хватало на два дня.
Нельзя сказать, что в свои восемьдесят он выжил из ума. Рассуждения его были вполне здравы. Но он не помнил многого из своей зрелой жизни, не узнавал недавних знакомых. Зато всё, что происходило с ним в детстве и юности, вспоминал с мельчайшими подробностями. Кажется, он желал и искал себе слушателей.
– Николаша, ты мне это уже несколько раз рассказывал, – останавливала его Ирина Александровна, озабоченная хозяйственными хлопотами.
– Да? Ну, извини, Иринушка, – смущался Николай Киприанович.
В Латной, до переезда в Пензу, дядя Коля жил в итээровском коттедже пятидесятых годов постройки. Это был шлакоблочный дом на два крыла. Таких домов тянулось вдоль дороги на цементный завод десятка полтора. Они образовывали коротенькую Коминтерновскую улицу. По другую сторону дороги плешивел небольшой пустырёк, примыкавший к бетонному заводскому забору. По вёснам обрастал он тщедушной растительностью – мелким полынником, просвирником, но уже к июню покрывалась она белесой цементной пылью и чахла под ней, пока не укрывал её первый чистый снежок. На дальнем от проходной конце пустыря в такой же, как жилые дома, шлакоблочной коробке располагался заводской магазинчик. Торговали там предметами повседневной надобности, в том числе продуктами питания. Унылый пейзаж этот трижды в день оживлялся не менее унылыми цепочками тянущихся из посёлка на завод и обратно рабочих.
Под одной из заборных плит заводские выпивохи прокопали лаз, чуть прикрытый с улицы кустиками крапивы, и как были в цехах – в спецовках, забитых серой цементной пылью – бегали в магазин «пропустить по маленькой», «поправиться». Промывали горло прямо на пустырьке, закусывая, в лучшем случае, ливерной колбасой, чёрным хлебушком, килькой в томате, а то и занюхивая рукавом. Бутылки, газетные обёртки, прочий мусор бросали тут же.
С некоторых пор ежедневные прогулки дяди Коли приобрели необычный характер, что вызывало ухмылки алкашей и сочувственные покачивания головой соседей. Дескать, сдвиг по фазе у деда. Он заострил наподобие пики ореховый прут, пришил к валявшейся в сарае старой дерматиновой сумке ремённые ручки и, медленно вышагивая по постоянному своему маршруту – вдоль улицы до магазинчика и по тропинке вдоль забора обратно, накалывал на прут все валявшиеся на пути бумажки.
Время от времени наклонялся, чтобы поднять и положить в сумку пустую «чекушку», растерзанную консервную банку, осколки разбитой стеклотары. Все это сносилось в давно пустующий и уже ни для чего не потребный сарай позади коттеджа.
Ирина Александровна пыталась устыдить деверя, полагая, что у него развилось старческое плюшкинство, но он упорно отмалчивался и продолжал собирательство.
Приехавшим навестить стариков Кириллу и Вере понадобилось полных два дня, чтобы по просьбе матери очистить сарай. Они совком и широкими угольными вилами нагружали собранное дядей Колей богатство на одолженную у соседей тачку и вывозили на задворки. Склянки и жестянки закопали в яму, бумагу спалили в лёгком костре. Дядя Коля не протестовал. Он, кажется, был даже доволен. За ужином, когда мать кормила работничков своим фирменным борщом, он, посасывая хлебную крошку, хитро глянул на Кирилла и сказал:
– Вон как наработался, целую тарелку борща схлебал.
Ирина Александровна расхохоталась.
– Ой, Николаша, уморил! Да я, когда к вам в Воронеж приехала, с ужасом смотрела, как маменька вас прокормить умудряется. Только и слышишь, бывало, за столом: «Маманя, подлей-ка ещё!». По три тарелки съедали.
– Неужто по три, Иринушка? – недоверчиво переспросил дядя Коля.
– По три, по три.
– По три тарелки щей – это ещё что! Я однажды три котелка каши съел, гречневой. С тех пор видеть её не могу. А раньше любил.
– Это как же случилось, дядь Коль? – спросил Кирилл. – Расскажи…
Это был единственный в жизни Веры живой рассказ о Гражданской войне. Не из книжки вычитанный, а вот он, дядя Коля, Николай Киприанович Даршин, всё это пережил. Это ему приходилось на своем паровозе возить и белых, и красных, удирать от зелёных и лоскутных банд, стрелять и, наверно, убивать людей.
Веру испугала тогда краткомерность времени. Всегда казалось таким далёким, овеянным романтикой и героизмом время революции: отряд красных кавалеристов едет вдоль берега реки, воспаряющейся туманом в небо. Колышется красное полотнище знамени. Глухо токают копыта о волглую землю. Не прозвякнут уздечки и снаряжение бойцов – враг близко! На всхолмие поднимается дорога. Над холмом разливается алая заря, и один за другим тихо уплывают в неё красные всадники.
Никогда у Веры даже не возникало вопроса: «А что же белые кавалеристы? Белые всадники?» Заведомо относились они под понятие «враги», будто и людей никаких за этим словом не стояло, а только одна абстракция. Какую-то смуту вносили в её душу не шибко одобряемые педагогами, тайком читанные стихи Ахматовой, Цветаевой, Гумилёва, да заслонял сомнения и вопросы гайдаровский образ революции. Рассказ дяди Коли поразил Веру своей невероятной простотой.
СОДЕРЖАНИЕ
От издателя.
Часть I. Квадруга.
Часть 2. Точки отсчёта.
Часть 3. Просто, просто, просто…
Часть 4. Поиск.
Часть 5. В пределах времени.
Рассказ Николая Киприановича Даршина.
Часть 6. Ветви дерева.
Часть 7. Так было всегда.
Часть 8. Выпали им дороги.
Часть 9. Цугом вытянем.
Д. Лобузная. Роман о Пензе (Опыт лирического послесловия.)